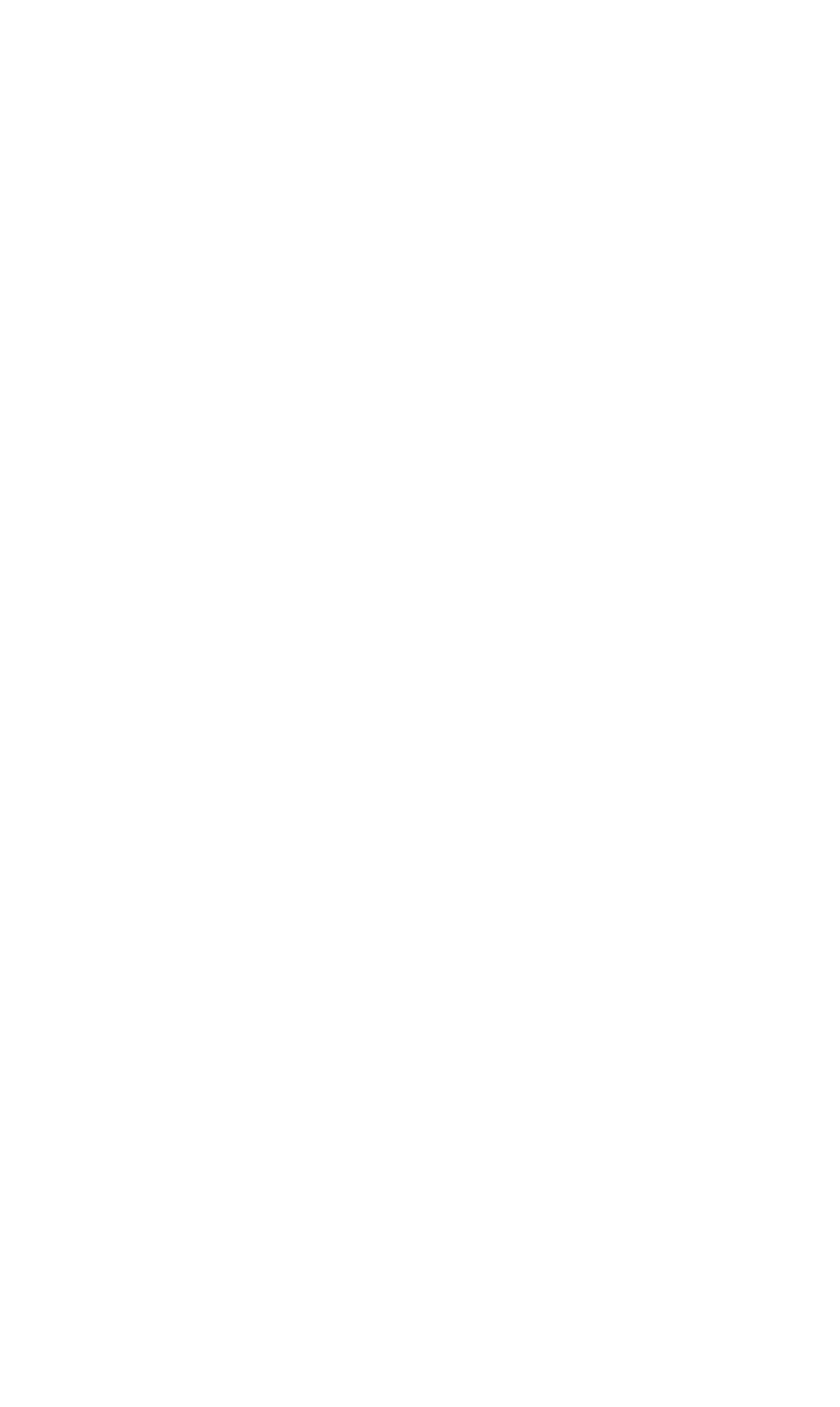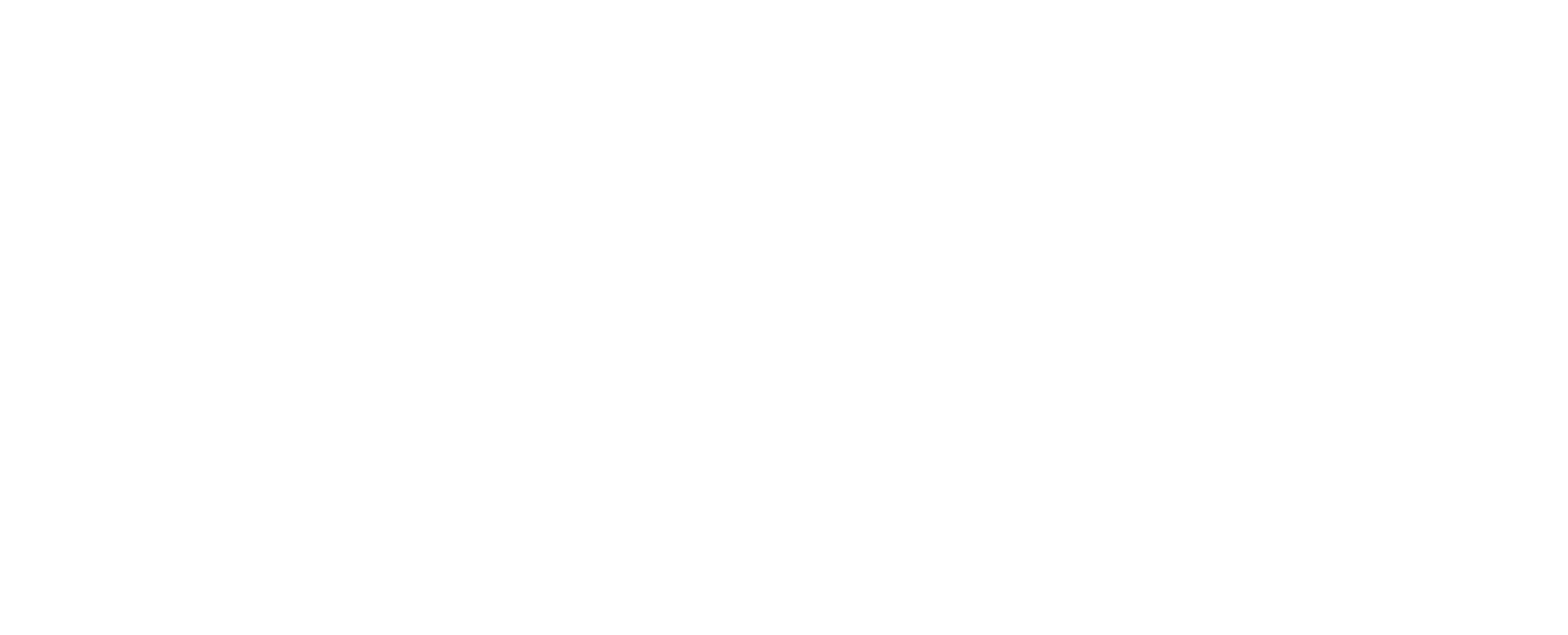
Подпишитесь на наши обновления
«Токсичная продуктивность как концепция провалилась»:
Камилла Асхат о зумерах на рынке труда Казахстана и своем взгляде на карьеру
Камилла Асхат о зумерах на рынке труда Казахстана и своем взгляде на карьеру
В соцсетях все чаще появляются упоминания о том, как казахстанцы иронизируют о чувствительности и требовательности зумеров. Представители поколения Z постепенно выходят на рынок труда. Их склонны называть самым свободолюбивым и непостоянным поколением. А классический режим работы, график 5/2 и отсутствие удаленки и вовсе могут стать причиной увольнения таких кадров. В Threads только ленивый не пожаловался на свой опыт соприкосновения с зумерами в работе. Те в ответ высказывают свои контраргументы в TikTok.
В 2030 году поколение Z займет больше трети рабочей силы в Казахстане. О том, как казахстанские зумеры смотрят на работу и карьеру, мы поговорили с Камиллой Асхат — исследовательницей медиа и цифровой культуры. А еще Камилла — самая молодая сотрудница исследовательского центра Paperlab.
The Voice Media рассказывает о личном опыте Камиллы и ее отношении к горизонтальным структурам на работе, где каждый имеет право голоса и равные возможности.
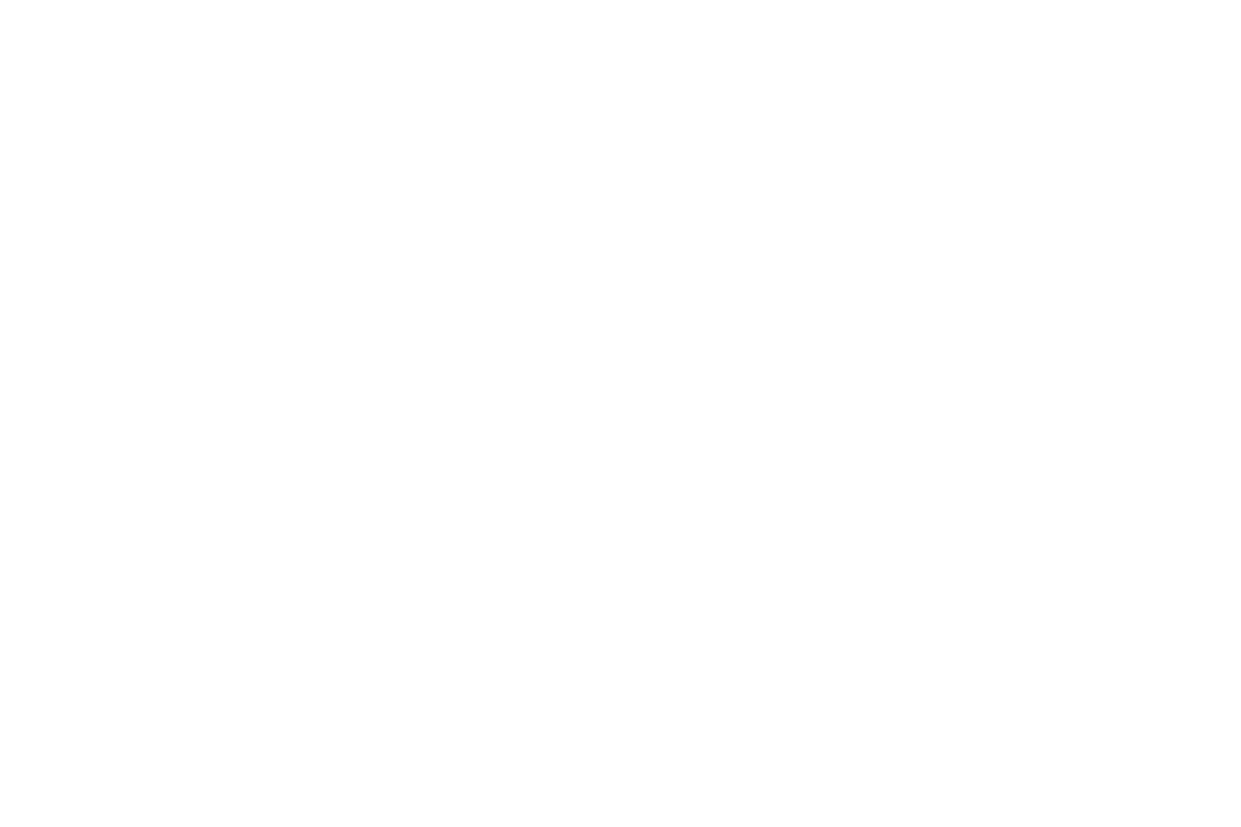
Фото: askhat_kamilla
Как поколение Z влияет на рынок труда
Теория поколений — это исследовательский подход, который описывает, почему появляются разные поколения, что их объединяет и как они меняются.
В 1991 году американские ученые Уильям Штраус и Нейл Хоув решили, что определенные события формируют у людей, которые их переживают, похожие черты характера. Теория Штрауса — Хоува стала популярной в маркетинге и бизнес-менеджменте. При этом теорию раскритиковали профессиональные историки и социологи: характеристики поколений не учитывают индивидуальность каждого человека. Уильям Штраус и Нейл Хоув выделяют четыре поколения: беби-бумеры (1944–1963), Х, или иксеры (1964–1980), Y, или миллениалы (1981–1996), и Z, или центениалы (1997–2010). Здесь важно учитывать, что теорию придумали в США, поэтому временные интервалы тех же поколений в нашей стране могут немного сдвигаться. Считается, что «нашим» зумерам сейчас от 10 до 24 лет.
Согласно исследованию Deloitte, к 2026 году общее количество сотрудников снизится на 3 млн. Это значит, что не кандидаты будут бороться за место, а компании — за перспективных сотрудников из нового поколения Z. Тот факт, что сегодня бок о бок приходится работать людям с разным жизненным опытом, разными ценностями и трудовой мотивацией, часто становится почвой для размолвок и конфликтов.
Сервис Resume Builder выяснил, почему с зумерами тяжело работать. Среди основных причин был назван недостаток технологических навыков, а также нехватка мотивации и продуктивности. Однако зумеры только начинают свою карьеру, переосмысляют корпоративную культуру и себя на рабочем месте. Компании любого размера и из любой отрасли должны принять это к сведению и попытаться понять, как они могут взаимодействовать с ними. Потому что уже завтра зумеры могут стать теми людьми, которые полностью формируют рынок труда и задают траекторию его развития.
Теория поколений — это исследовательский подход, который описывает, почему появляются разные поколения, что их объединяет и как они меняются.
В 1991 году американские ученые Уильям Штраус и Нейл Хоув решили, что определенные события формируют у людей, которые их переживают, похожие черты характера. Теория Штрауса — Хоува стала популярной в маркетинге и бизнес-менеджменте. При этом теорию раскритиковали профессиональные историки и социологи: характеристики поколений не учитывают индивидуальность каждого человека. Уильям Штраус и Нейл Хоув выделяют четыре поколения: беби-бумеры (1944–1963), Х, или иксеры (1964–1980), Y, или миллениалы (1981–1996), и Z, или центениалы (1997–2010). Здесь важно учитывать, что теорию придумали в США, поэтому временные интервалы тех же поколений в нашей стране могут немного сдвигаться. Считается, что «нашим» зумерам сейчас от 10 до 24 лет.
Согласно исследованию Deloitte, к 2026 году общее количество сотрудников снизится на 3 млн. Это значит, что не кандидаты будут бороться за место, а компании — за перспективных сотрудников из нового поколения Z. Тот факт, что сегодня бок о бок приходится работать людям с разным жизненным опытом, разными ценностями и трудовой мотивацией, часто становится почвой для размолвок и конфликтов.
Сервис Resume Builder выяснил, почему с зумерами тяжело работать. Среди основных причин был назван недостаток технологических навыков, а также нехватка мотивации и продуктивности. Однако зумеры только начинают свою карьеру, переосмысляют корпоративную культуру и себя на рабочем месте. Компании любого размера и из любой отрасли должны принять это к сведению и попытаться понять, как они могут взаимодействовать с ними. Потому что уже завтра зумеры могут стать теми людьми, которые полностью формируют рынок труда и задают траекторию его развития.
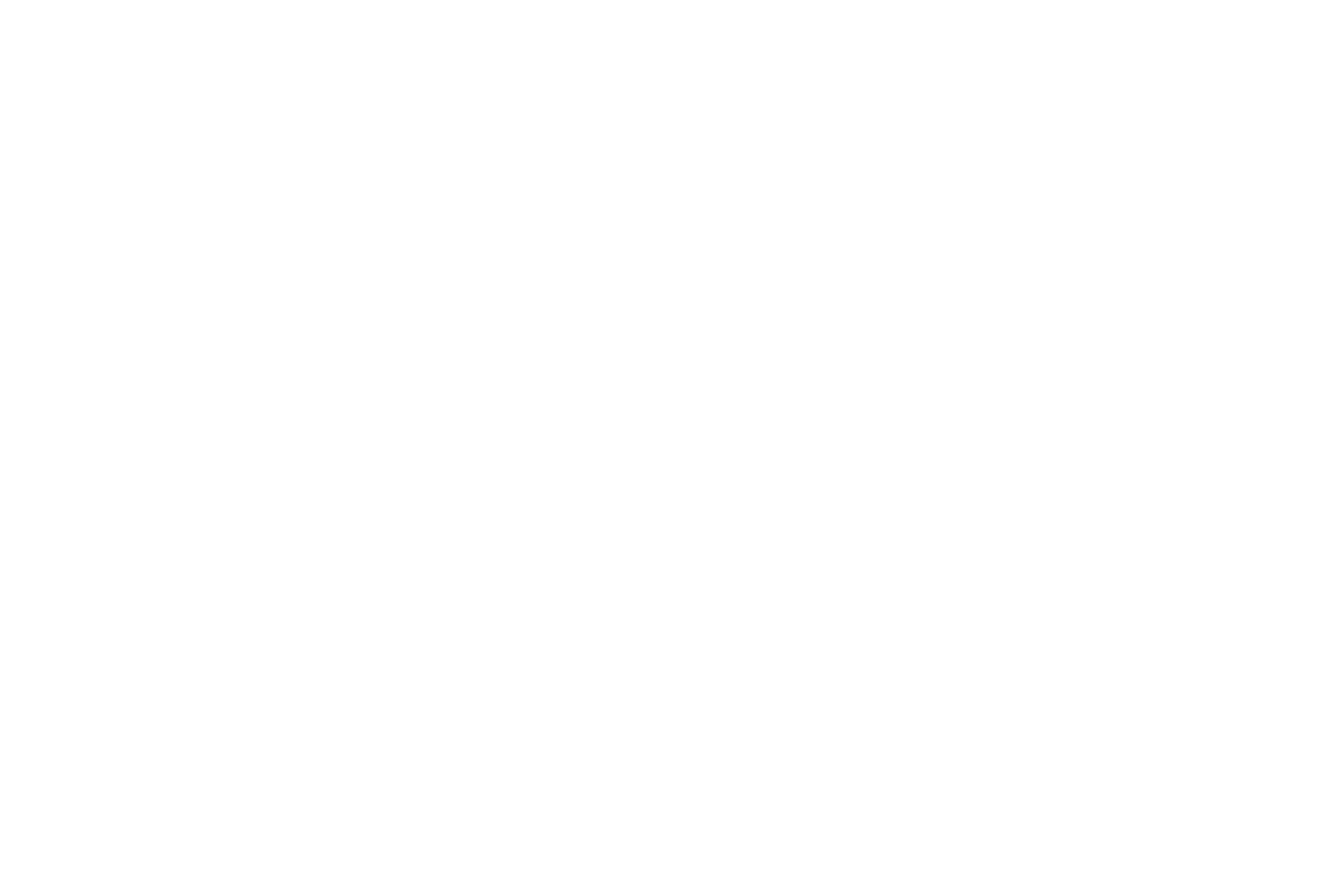
Фото: askhat_kamilla
«Субъектность» на рабочем месте
Paperlab — это исследовательский центр, созданный для проведения политико-прикладных исследований, ориентированных на решение проблемы. В рамках деятельности центра Камилла Асхат принимала участие в обсуждении текущего механизма онлайн-петиций, а также в пересмотре норм и практик, чтобы этот институт действительно стал возможностью политического участия граждан. Кстати, свой бакалаврский диплом она писала об онлайн-петициях как стратегии представления общественного протеста в Казахстане. У Камиллы активные соцсети: свой телеграм-канал slay studies, где она делится размышлениями из жизни через призму исследований цифровой культуры. Профиль в TikTok с разбором деколониального дискурса на практике и рекомендациями литературы. А в Instagram ее аккаунт подчеркивает академический интерес и экспертность Камиллы, включая посты о работе и мероприятиях.
Камилла поделилась мнением о том, как поколение Z в Казахстане смотрит на работу и карьеру. Исследовательница считает, что работодателям стоит прислушиваться к зумерам, потому что они — это не про лень, а про другой подход к труду и жизни. Этика на работе тоже важна: нулевая терпимость к харассменту, дискриминации и оскорблениям — это то, что они ожидают от работодателя. Камилла отмечает, что для зумеров важны ценности компании, ее миссия и общественная значимость проектов.
Paperlab — это исследовательский центр, созданный для проведения политико-прикладных исследований, ориентированных на решение проблемы. В рамках деятельности центра Камилла Асхат принимала участие в обсуждении текущего механизма онлайн-петиций, а также в пересмотре норм и практик, чтобы этот институт действительно стал возможностью политического участия граждан. Кстати, свой бакалаврский диплом она писала об онлайн-петициях как стратегии представления общественного протеста в Казахстане. У Камиллы активные соцсети: свой телеграм-канал slay studies, где она делится размышлениями из жизни через призму исследований цифровой культуры. Профиль в TikTok с разбором деколониального дискурса на практике и рекомендациями литературы. А в Instagram ее аккаунт подчеркивает академический интерес и экспертность Камиллы, включая посты о работе и мероприятиях.
Камилла поделилась мнением о том, как поколение Z в Казахстане смотрит на работу и карьеру. Исследовательница считает, что работодателям стоит прислушиваться к зумерам, потому что они — это не про лень, а про другой подход к труду и жизни. Этика на работе тоже важна: нулевая терпимость к харассменту, дискриминации и оскорблениям — это то, что они ожидают от работодателя. Камилла отмечает, что для зумеров важны ценности компании, ее миссия и общественная значимость проектов.

Фото: askhat_kamilla
Об изменении взглядов на карьеру
Мне кажется, у нас заметно упал интерес к «традиционным» карьерам в корпорациях или госсекторе в пользу стартапов, собственного бизнеса и креативных индустрий. Плюс мы оканчивали школы и получали высшее образование в период пандемии, следовательно, классическая «офисная» работа как формат проигрывает фрилансу и гибридному графику, поскольку мы уже научены работать и обучаться без привязки к физическому месту. Еще я бы отметила приоритизацию work-life balance, для молодежи карьера не центр жизни. Также молодежь не боится приходить к работодателям со своими ожиданиями, как зарплатными, так и карьерными.
Корпоративная культура и зумеры
Думаю, для зумеров конвенциональная корпоративная культура с присущей ей иерархией непривлекательна и уже не интересна. Больший интерес представляют компании и организации с горизонтальным устройством, где каждый сотрудник — равноправный актор, чьи идеи, мнения и критика так же ценны, как и обратная связь от глав департаментов или директора. В этом плане, мне кажется, зумеры переосмыслили и приоритизировали «субъектность» на рабочем месте. Зумерам не хочется видеть карьеру как лестницу, по которой надо поэтапно карабкаться, параллельно зарабатывая большее право на свой «вес». Для нас это больше игровое поле, где мы видим разные траектории и возможности для профессиональной реализации даже в рамках одной компании. При этом это не исключает ответственности, как раз наоборот: приумножает ее — когда тебя воспринимают на равных на самых ранних этапах, ты понимаешь, что твоя деятельность напрямую влияет на важные рабочие процессы.
Когда я оканчивала университет и искала потенциального работодателя, я в первую очередь смотрела на ценности и миссии организаций. У меня был пункт «Не хочу подписываться под проектом, ценности которого я лично не разделяю». Когда ты молод и только выходишь на рынок труда, тебя интересует не только заработок (хотя это тоже, конечно, важно), но и социальная, культурная или общественная ценность проектов, в которых ты работаешь. Поэтому компании, которые закладывают элемент социальной ответственности и сопричастности к проблемам в стране, выглядят привлекательнее для молодых сотрудников.
Еще один важный аспект, который косвенно вытекает из предыдущего, — это этические нормы. Поскольку зумеры — это люди, которые неравнодушны к разным формам дискриминации, нам важно знать, что коллеги и руководство имеют нулевую терпимость к насилию, например харассменту. Сюда же относятся и нормы коммуникации: никто не может вербально или невербально оскорбить другого сотрудника безнаказанно. У работодателя должна быть конкретная позиция и механизмы по решению конфликтов внутри и за пределами компании. Поэтому, кстати, по моему опыту, комфортнее работать в женских коллективах и с женщинами-руководительницами.
Кроме того, важно, чтобы учеба, повышение квалификации и профессиональное развитие «сидели» в рабочих часах. В Paperlab, где я работаю, именно так и происходит. Каждый, кто учится и прокачивается профессионально, делает это в рабочее время, не выделяя этому экстрачасы. Во-первых, в этом заинтересован и сам работодатель, во-вторых, это сохраняет work-life balance.
Мне кажется, у нас заметно упал интерес к «традиционным» карьерам в корпорациях или госсекторе в пользу стартапов, собственного бизнеса и креативных индустрий. Плюс мы оканчивали школы и получали высшее образование в период пандемии, следовательно, классическая «офисная» работа как формат проигрывает фрилансу и гибридному графику, поскольку мы уже научены работать и обучаться без привязки к физическому месту. Еще я бы отметила приоритизацию work-life balance, для молодежи карьера не центр жизни. Также молодежь не боится приходить к работодателям со своими ожиданиями, как зарплатными, так и карьерными.
Корпоративная культура и зумеры
Думаю, для зумеров конвенциональная корпоративная культура с присущей ей иерархией непривлекательна и уже не интересна. Больший интерес представляют компании и организации с горизонтальным устройством, где каждый сотрудник — равноправный актор, чьи идеи, мнения и критика так же ценны, как и обратная связь от глав департаментов или директора. В этом плане, мне кажется, зумеры переосмыслили и приоритизировали «субъектность» на рабочем месте. Зумерам не хочется видеть карьеру как лестницу, по которой надо поэтапно карабкаться, параллельно зарабатывая большее право на свой «вес». Для нас это больше игровое поле, где мы видим разные траектории и возможности для профессиональной реализации даже в рамках одной компании. При этом это не исключает ответственности, как раз наоборот: приумножает ее — когда тебя воспринимают на равных на самых ранних этапах, ты понимаешь, что твоя деятельность напрямую влияет на важные рабочие процессы.
Когда я оканчивала университет и искала потенциального работодателя, я в первую очередь смотрела на ценности и миссии организаций. У меня был пункт «Не хочу подписываться под проектом, ценности которого я лично не разделяю». Когда ты молод и только выходишь на рынок труда, тебя интересует не только заработок (хотя это тоже, конечно, важно), но и социальная, культурная или общественная ценность проектов, в которых ты работаешь. Поэтому компании, которые закладывают элемент социальной ответственности и сопричастности к проблемам в стране, выглядят привлекательнее для молодых сотрудников.
Еще один важный аспект, который косвенно вытекает из предыдущего, — это этические нормы. Поскольку зумеры — это люди, которые неравнодушны к разным формам дискриминации, нам важно знать, что коллеги и руководство имеют нулевую терпимость к насилию, например харассменту. Сюда же относятся и нормы коммуникации: никто не может вербально или невербально оскорбить другого сотрудника безнаказанно. У работодателя должна быть конкретная позиция и механизмы по решению конфликтов внутри и за пределами компании. Поэтому, кстати, по моему опыту, комфортнее работать в женских коллективах и с женщинами-руководительницами.
Кроме того, важно, чтобы учеба, повышение квалификации и профессиональное развитие «сидели» в рабочих часах. В Paperlab, где я работаю, именно так и происходит. Каждый, кто учится и прокачивается профессионально, делает это в рабочее время, не выделяя этому экстрачасы. Во-первых, в этом заинтересован и сам работодатель, во-вторых, это сохраняет work-life balance.
Баланс между работой и личной жизнью
Меня поражает в миллениалах и поколении старше то, с каким остервенением они готовы работать в нерабочее время вопреки всему. Это какая-то дикость, возведенная в культ, еще и почему-то социально одобряемая. Для зумеров идея о том, что работать надо много, долго, мучительно и сверхурочно, — провальна. Зумеры активно увлечены как работой, так и личными интересами и хобби. Токсичная продуктивность как концепция провалилась, в итоге рынок получил кучу профессионалов, которые тратят половину зарплаты на психотерапию. Я, например, не отвечаю на рабочие сообщения или письма в нерабочее время, а в обед обедаю. Многие мои друзья-сверстники делают так же. Здесь даже деньги не могут быть мотивацией, потому что время на активности по интересам важно эмоционально и ментально.
Ценность свободного времени и отключение «рабочего» режима позволяют не выгорать и работать более устойчиво. Не думаю, что отчет, написанный слезами в три часа ночи, потому что «срочно», сильно лучше отчета, написанного в здравом темпе днем. Если каждая задача «срочная», это не про несостоятельность молодого сотрудника, а про плохо налаженные бизнес-процессы. Пусть от капитализма страдают те, кто его придумал.
Трудовая мотивация и смена работы
Наверное, очевидно, но необходима в первую очередь финансовая мотивация, где основной оклад может увеличиваться пропорционально рабочей производительности. О повышении зарплаты, кстати, зумеры просить не боятся. Еще важный компонент — менторская поддержка. Круто, когда при найме заранее виден карьерный трек. Это показывает, что работодатель заинтересован в своих сотрудниках, а не расценивает их исключительно как рабочую силу (которую при удобном случае можно будет уволить).
Зумеры не остаются на одном месте работы надолго, нормальный цикл — 1–1,5 года на одной позиции. 10 лет учиться, чтобы следующие 40 лет работать на одном месте — это какой-то постсоветский атавизм. Мы больше открыты к переменам, потому что выросли и сформировались в период постоянных перемен без статичных, «вечных» работ, где всегда всё стабильно. Таких работ сейчас и не существует. Пару назад я начинала продюсером в современном искусстве, потом мне стала интересна историческая документалистика, а сейчас я работаю в политико-прикладных исследованиях. И я все еще открыта к новым проектам и сферам в будущем. Мне иногда говорят, что по моему резюме непонятно, кем конкретно я могу работать, я отвечаю, что у меня нет одной-единственной профессиональной идентичности и я дорожу своими междисциплинарными навыками. Сейчас даже университетские программы нацелены на кросс-дисциплины, вряд ли сегодняшние выпускники приходят с навыками только экономиста, он может также иметь minor в истории искусств, например. Плюс мне кажется, что гибкость и разносторонность зумеров и отличает нас от прошлых поколений — мы умеем учиться и переучиваться. Тем более зумеры понимают, что нет смысла выбирать дело, которое в ближайшие годы сможет заменить искусственный интеллект.
Ожидания от работодателей
Я думаю, работодателям не нужно нас бояться. Наша молодость — наше преимущество, мы привносим свежий взгляд и перемены, задаем и понимаем тренды, мы адаптивны к изменениям, и главное — мы не боимся, соответственно, и нас тоже лучше не бояться при найме. Еще я бы добавила навык не приравнивать опыт работы к работоспособности. Это тоже некая иллюзия, что опыт — это обязательно про способность работать продуктивно в дальнейшем. Кроме того, важно создавать инклюзивную среду и строить здоровую культуру коммуникации на рабочем месте. Это уже не прихоть, а необходимость.
Взаимодействие с зумерами
Я часто натыкаюсь на споры о рабочей производительности зумеров, мол, они нежные, ленивые, посредственные. И еще лично слышала мнение, что зумеры «непонятные». Здесь, мне кажется, все снова упирается в разность восприятия труда как такового, общепринятой иерархии и иногда даже эйджизма. Для нас работа — это просто работа, помимо нее, у нас еще множество интересов, которые нам важно развивать и поддерживать. И вот про «нежность» зумеров — это же всё про нормы коммуникаций, которые сильно изменились, и это нужно принять. Я периодически слышу от подруг моего возраста истории о неуместных комментариях, шутках и намеках на работе. Когда обсуждаешь те же ситуации с людьми старше, особенно мужчинами, появляется недопонимание, потому что они не видят никаких нарушений или перехода личных границ. Даже требования соблюдения субординации и личных границ воспринимаются как некий каприз, который «придумали зумеры». Вот с этим иногда устаешь бороться.
В Paperlab я самая молодая сотрудница и люблю шутить, что иногда мою речь надо переводить с зумерского на обычный. Культура коммуникаций и организация власти у нас горизонтальная, также есть четко расписанная политика по недискриминации на рабочем месте, поэтому мой возраст никогда не был инструментом поставить под сомнения мои компетенции и экспертность. Может быть, есть разница в общих культурных кодах, но чаще это только рождает возможность обмениваться мнениями и опытом.
Меня поражает в миллениалах и поколении старше то, с каким остервенением они готовы работать в нерабочее время вопреки всему. Это какая-то дикость, возведенная в культ, еще и почему-то социально одобряемая. Для зумеров идея о том, что работать надо много, долго, мучительно и сверхурочно, — провальна. Зумеры активно увлечены как работой, так и личными интересами и хобби. Токсичная продуктивность как концепция провалилась, в итоге рынок получил кучу профессионалов, которые тратят половину зарплаты на психотерапию. Я, например, не отвечаю на рабочие сообщения или письма в нерабочее время, а в обед обедаю. Многие мои друзья-сверстники делают так же. Здесь даже деньги не могут быть мотивацией, потому что время на активности по интересам важно эмоционально и ментально.
Ценность свободного времени и отключение «рабочего» режима позволяют не выгорать и работать более устойчиво. Не думаю, что отчет, написанный слезами в три часа ночи, потому что «срочно», сильно лучше отчета, написанного в здравом темпе днем. Если каждая задача «срочная», это не про несостоятельность молодого сотрудника, а про плохо налаженные бизнес-процессы. Пусть от капитализма страдают те, кто его придумал.
Трудовая мотивация и смена работы
Наверное, очевидно, но необходима в первую очередь финансовая мотивация, где основной оклад может увеличиваться пропорционально рабочей производительности. О повышении зарплаты, кстати, зумеры просить не боятся. Еще важный компонент — менторская поддержка. Круто, когда при найме заранее виден карьерный трек. Это показывает, что работодатель заинтересован в своих сотрудниках, а не расценивает их исключительно как рабочую силу (которую при удобном случае можно будет уволить).
Зумеры не остаются на одном месте работы надолго, нормальный цикл — 1–1,5 года на одной позиции. 10 лет учиться, чтобы следующие 40 лет работать на одном месте — это какой-то постсоветский атавизм. Мы больше открыты к переменам, потому что выросли и сформировались в период постоянных перемен без статичных, «вечных» работ, где всегда всё стабильно. Таких работ сейчас и не существует. Пару назад я начинала продюсером в современном искусстве, потом мне стала интересна историческая документалистика, а сейчас я работаю в политико-прикладных исследованиях. И я все еще открыта к новым проектам и сферам в будущем. Мне иногда говорят, что по моему резюме непонятно, кем конкретно я могу работать, я отвечаю, что у меня нет одной-единственной профессиональной идентичности и я дорожу своими междисциплинарными навыками. Сейчас даже университетские программы нацелены на кросс-дисциплины, вряд ли сегодняшние выпускники приходят с навыками только экономиста, он может также иметь minor в истории искусств, например. Плюс мне кажется, что гибкость и разносторонность зумеров и отличает нас от прошлых поколений — мы умеем учиться и переучиваться. Тем более зумеры понимают, что нет смысла выбирать дело, которое в ближайшие годы сможет заменить искусственный интеллект.
Ожидания от работодателей
Я думаю, работодателям не нужно нас бояться. Наша молодость — наше преимущество, мы привносим свежий взгляд и перемены, задаем и понимаем тренды, мы адаптивны к изменениям, и главное — мы не боимся, соответственно, и нас тоже лучше не бояться при найме. Еще я бы добавила навык не приравнивать опыт работы к работоспособности. Это тоже некая иллюзия, что опыт — это обязательно про способность работать продуктивно в дальнейшем. Кроме того, важно создавать инклюзивную среду и строить здоровую культуру коммуникации на рабочем месте. Это уже не прихоть, а необходимость.
Взаимодействие с зумерами
Я часто натыкаюсь на споры о рабочей производительности зумеров, мол, они нежные, ленивые, посредственные. И еще лично слышала мнение, что зумеры «непонятные». Здесь, мне кажется, все снова упирается в разность восприятия труда как такового, общепринятой иерархии и иногда даже эйджизма. Для нас работа — это просто работа, помимо нее, у нас еще множество интересов, которые нам важно развивать и поддерживать. И вот про «нежность» зумеров — это же всё про нормы коммуникаций, которые сильно изменились, и это нужно принять. Я периодически слышу от подруг моего возраста истории о неуместных комментариях, шутках и намеках на работе. Когда обсуждаешь те же ситуации с людьми старше, особенно мужчинами, появляется недопонимание, потому что они не видят никаких нарушений или перехода личных границ. Даже требования соблюдения субординации и личных границ воспринимаются как некий каприз, который «придумали зумеры». Вот с этим иногда устаешь бороться.
В Paperlab я самая молодая сотрудница и люблю шутить, что иногда мою речь надо переводить с зумерского на обычный. Культура коммуникаций и организация власти у нас горизонтальная, также есть четко расписанная политика по недискриминации на рабочем месте, поэтому мой возраст никогда не был инструментом поставить под сомнения мои компетенции и экспертность. Может быть, есть разница в общих культурных кодах, но чаще это только рождает возможность обмениваться мнениями и опытом.